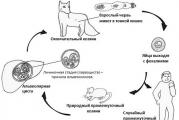Андрей вышинский биография. Сталинский прокурор. Андрей Вышинский не одобрял политические репрессии? История одной дачи
Андрей Януарьевич Вышинский (польск. Andrzej Wyszyski; 10 декабря 1883 года, Одесса - 22 ноября 1954 года, Нью-Йорк) - советский государственный деятель, юрист, дипломат.
В 1953-1954 гг. постоянный представитель СССР при ООН. В 1949-1953 гг. министр иностранных дел СССР. В 1935-1939 гг. прокурор СССР. Также занимал ряд других должностей.
Член ЦК ВКП(б) (с 1939 года), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1952-1953).
Член ЦИК СССР 7 созыва, депутат Верховного Совета СССР 1, 2, 4 созывов.
Доктор юридических наук (1936), профессор, а в 1925-1928 годах ректор Московского государственного университета. Академик АН СССР (1939).
Биография
Отец, выходец из старинного польского шляхетского рода Януарий Феликсович Вышинский, был провизором; мать - учительницей музыки. Вскоре после рождения сына семья переехала в Баку, где Андрей окончил первую мужскую классическую гимназию (1900).
В 1901 году поступил на юридический факультет Киевского университета, но окончил его только в 1913 году (так как исключался за участие в студенческих беспорядках), был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию, но отстранен администрацией как политически неблагонадежный. В марте 1902 года отчислен из университета без права повторного поступления, попал под полицейский надзор. Возвратился в Баку, где в 1903 году вступил в меньшевистскую организацию РСДРП.
В 1906-1907 годах Вышинского дважды арестовывали, однако вскоре освобождали за недостаточностью улик. В начале 1908 года был осуждён Тифлисской судебной палатой за «произнесение публично противоправительственной речи».
Отбыл год лишения свободы в Баиловской тюрьме, где близко познакомился со Сталиным; существуют утверждения, что некоторое время они сидели в одной камере.
По окончании учёбы в университете (1913) преподавал в Баку в частной гимназии русскую литературу, географию и латынь, занимался юридической практикой. В 1915-1917 годах помощник у присяжного поверенного округа Московской судебной палаты П. Н. Малянтовича.
После февральской революции 1917 года был назначен комиссаром милиции Якиманского района, тогда же подписал «распоряжение о неукоснительном выполнении на вверенной ему территории приказа Временного правительства о розыске, аресте и предании суду, как немецкого шпиона, Ленина» (см. Пломбированный вагон).
В 1920 году Вышинский вышел из меньшевистской партии и вступил в РКП(б).
В 1920-1921 годах преподаватель Московского университета и декан экономического факультета Института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1923-1925 гг. - прокурор уголовно-следственной коллегии Верховного суда СССР. Выступал в качестве государственного обвинителя на многих процессах: дело «Гукон» (1923); дело ленинградских судебных работников (1924); дело Консервтреста (1924).
В 1923-1925 годах прокурор уголовно-судебной коллегии Верховного суда РСФСР и одновременно профессор I МГУ по кафедре уголовного процесса.
В 1925-1928 годах ректор Московского государственного университета (тогда - 1-й Московский государственный университет). «Лекции по общим юридическим дисциплинам на младших курсах читал Андрей Януарьевич Вышинский, который был ректором университета. Естественно, тогда и подумать никто не мог, что этот умнейший преподаватель и блестящий лектор превратится в грозного прокурора Союза ССР», - вспоминал бывший тогда студентом МГУ М. С. Смиртюков.
Выступал как государственный обвинитель на политических процессах. Был председателем специального присутствия Верховного суда по Шахтинскому делу (1928), по делу Промпартии (1930). 6 июля 1928 года 49 специалистов Донбасса были приговорены к различным мерам наказания Верховным судом СССР под председательством Вышинского.
В 1928-1930 годах возглавлял Главное управление профессионального образования (Главпрофобр). В 1928-1931 гг. член коллегии Наркомата просвещения РСФСР. Заведовал учебно-методическим сектором Наркомпроса и замещал председателя Государственного учёного совета.
Родился в Одессе в семье провизора. По национальности поляк, родственник кардинала Стефана Вышинского (Белади Л., Краус Т. Сталин. М., 1990. С. 249). Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Баку, где отец стал работать в Кавказском товариществе торговли аптекарскими товарами. Вышинский окончил классическую гимназию в Баку и юридический факультет Киевского университета. Участник революционного движения с 1902 г. В 1903 г. примкнул к меньшевикам.1) В Баку был арестован и заключен в Баиловскую тюрьму, где сидел вместе с И. Джугашвили (Сталиным).
В июне 1917 г. уже в Петрограде Вышинский был одним из тех, кто подписал распоряжение о неукоснительном соблюдении приказа Временного правительства об аресте Ленина. С 1920 г. - член РКП(б). В 1925-1928 гг. - ректор Московского университета. С 1931 г. - прокурор РСФСР. В 1939-1944 гг. - заместитель председателя Совнаркома. В 1940-1953 гг. на руководящих постах в МИД СССР, с 1949 г. - министр иностранных дел. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г. В 1937-1950 гг. - депутат Верховного Совета СССР. После смерти Сталина - представитель СССР в ООН. Награжден шестью орденами Ленина. Умер от сердечного приступа в Нью-Йорке, узнав о начале реабилитации осужденных при Сталине.
А. Ваксберг 3) пишет: «Вышинский был единственным образованным человеком во всем сталинском-руководстве. Кто в уцелевшем сталинском окружении знал хоть один иностранный язык? Боюсь, мало кто знал как следует даже русский. А Вышинский говорил не только на языке матери (русском) и отца (польском), но и на очень хорошем французском, усвоенном в первоклассной царской гимназии. Он знал хуже, но тоже неплохо, еще и английский, и немецкий. По части знаний, необходимых для серьезного государственного деятеля, ему не было равных в сталинском руководстве 40-х годов. Знающим в этом руководстве вообще нечего было делать: с фатальной неизбежностью их выталкивала оттуда на живодерню машина уничтожения. Всех - кроме Вышинского. Потому что доверие Сталина к нему - полностью прирученному, превратившемуся в верного преданного раба, всегда остававшемуся под угрозой секиры и всегда помнившему об этом - доверие Сталина к нему было едва ли не безграничным. Не поняв этой уникальности ситуации, мы не поймем истинного места Вышинского на вершине политической пирамиды» (Ваксберг А. Царица доказательств: Вышинский и его жертвы. М., 1992. С. 274).
Вышинский - лауреат Сталинской премии 1947 г. за монографию «Теория судебных доказательств в советском праве». Выдвинутые в работах Вышинского положения были направлены на обоснование грубых нарушений социалистической законности, массовых репрессий. Признанию обвиняемого было придано значение ведущего доказательства. Понятия «презумпция невиновности» не существовало. При отсутствии каких-либо доказательств вины судьбу арестованного определяла «революционная совесть прокурора».
Вышинский был официальным обвинителем на сталинских политических процессах 1930-х годов. Причем он был не просто исполнителем воли режиссера Сталина. Он был соавтором, наподобие Берии или Молотова. Почти для всех обвиняемых Вышинский требовал смертной казни. Заключенные называли его «Андрей Ягуарьевич».
Стенограммы процессов показывают, что прокурор Вышинский доказательства заменял бранью. Оскорбить и унизить - прежде чем физически уничтожить - таков был метод его работы. Вот характерная выдержка из речи Вышинского:
«Я не знаю таких примеров - это первый в истории пример того, как шпион и убийца орудует философией, как толченым стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза, перед тем как размозжить ей голову разбойничьим кистенем». Это сложноподчиненное предложение с тремя сказуемыми - о «любимце партии» Николае Бухарине, «проклятой помеси лисицы и свиньи» (драматург М. Шатров утверждает, что эта формула подсказана Вышинскому Сталиным).
А вот другая характерная выдержка из речи прокурора: «Во все советские учреждения и организации проникло много врагов и шпионов, они замаскировались под советских служащих, рабочих, крестьян, ведут жесткую и коварную борьбу против советского народного хозяйства, против советского государства» (Советское государство и право. 1965. № 3. С. 24).
Лучшие дня
Следует заметить, что по крайней мере формально Вышинский прав. «Шпион - стала самой массовой профессией в СССР. По данным НКВД, за три года - с 1934 по 1937 - число арестованных за шпионаж выросло в 35 раз (в пользу Японии - в 13 раз, Германии - в 20 раз, Латвии - в 40 раз). Людей, оказавшихся вдруг „троцкистами", в тридцать седьмом „обнаружили" в 60 раз больше, чем в тридцать четвертом. А ведь Троцкий был выдворен из страны еще в двадцать девятом. За участие в так называемых „буржуазно-националистических группировках" число арестованных в 1937-м году выросло в 500 (!) раз по сравнению с 1934 г.!» (Альбац Е. Мина замедленного действия. М.,1992. С. 70-71).
Естественно, что всю эту «зловонную кучу» многочисленных «выродков» и «перерожденцев», «взбесившихся псов капитализма» и «презренных авантюристов», «проклятых гадов» и «человеческих отбросов», т. е. все это «троцкистско-зиновьевское и бухаринское охвостье», надо как-то наказать. Вот заключительные слова еще из одной речи Вышинского: «Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!
Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождем и учителем - великим Сталиным - вперед и вперед к коммунизму!»
В.М. Бережков вспоминает: «Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих. Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в приемную наркома он входил как воплощение скромности. Видимо, из-за своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и Деканозова, последний даже при людях называл его не иначе как „этот меньшевик"... Тем больший страх испытывал Вышинский в присутствии Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он входил к ним пригнувшись, как-то бочком, с заискивающей ухмылкой, топорщившей его рыжеватые усики» (Бережков В. Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993. С. 226).
Был женат (с 1903 г.) на Капитолине Исидоровне Михайловой (1884-1973). Счастливо прожил в браке свыше пятидесяти лет. В 1909 г. у них родилась дочь Зинаида (ум. 1991 г.).
взять хотя бы такой случай: летом 1917 года он, будучи прокурором Петрограда, выдал ордер на арест двух германских шпионов. Тогда, в семнадцатом, те двое сумели скрыться от правосудия, все лето просидев в шалаше под Питером. Но великий прокурор и отличается от невеликого прежде всего тем, что всегда оказывается прав: в 1935 году Прокурор СССР Вышинский снова выдал ордер на арест одного из той парочки (второй к тому времени уже умер), и ему - Зиновьев была его фамилия - уже уйти от правосудия не удалось. Выступая на процессе обвинителем, Вышинский не оставил Зиновьеву ни одного шанса на оправдание, Зиновьев был расстрелян. (*нераб.ссылка)
________________________________________ ___________
ВЫШИНСКИЙ
Прокурор РСФСР (с 1928) Николай Васильевич Крыленко (1885-1938) выступая на процессе «Пром-партии» государственным обвинителем сказал (4 декабря 1930 г.): «Лучшей уликой при всех обстоятельствах является все же сознание подсудимых ».Не зная закулисной стороны московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей. Полагали, что этот человек оказал существенное влияние на судьбу подсудимых. В таком представлении нет ничего удивительного: ведь действительные организаторы процессов (Ягода, Ежов, Молчанов, Агранов, Заковский и прочие) всё время оставались в тени и именно Вышинскому было официально поручено выступать на "открытых" судебных процессах в качестве генерального обвинителя.
Читатель будет удивлён, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаясь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя.
Одно было ясно Вышинскому: подсудимые невиновны. Как опытный прокурор, он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочло нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях.
Вот, собственно, и всё, что было известно Вышинскому. Главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указаниях, получаемых от Сталина, о методах следствия и инквизиторских приёмах, испытанных на каждом из арестованных, или о переговорах, которые Сталин вёл с главными обвиняемыми. От Вышинского не только не зависела судьба подсудимых, - он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них.
Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском, как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей - Каменева, Бухарина и многих других. Но они никогда не были друзьями Вышинского. В дни Октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикады. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне думается, многие из старых большевиков впервые услышали эту фамилию только в начале 30-х годов, когда Вышинский был назначен генеральным прокурором, а увидели его своими глазами не ранее 1935 года, когда их ввели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить за участие в убийстве Кирова.
Руководство НКВД относилось к Вышинскому не то чтобы с недоверием, а скорее со снисходительностью - так, как влиятельные сталинские бюрократы с партбилетом в кармане привыкли относиться к беспартийным. Даже инструктируя его, с какой осторожностью он должен касаться некоторых скользких моментов обвинения, они ни разу не были с ним в полной мере откровенны.
У Вышинского были основания ненавидеть этих надменных хозяев положения. Он понимал, что ему придётся всячески лавировать на суде, маскируя их топорную работу, и своим красноречием прикрывать идиотские натяжки, имеющиеся в деле каждого обвиняемого. Понимал он и другое: если эти подтасовки как-нибудь обнаружатся на суде, то инквизиторы сделают козлом отпущения именно его, пришив ему в лучшем случае "попытку саботажа".
У руководителей НКВД в свою очередь были основания не любить Вышинского. Во-первых, они презирали его как бывшего узника "органов": в архивах всё ещё хранилось его старое дело, где он обвинялся в антисоветской деятельности. Во-вторых, их снедало чувство ревности - к нему было приковано внимание всего мира, следившего за ходом сенсационных процессов, а им, истинным творцам этих грандиозных спектаклей, как говорится "из ничего" состряпавшим чудовищный заговор и ценой невероятных усилий сумевшим сломать и приручить каждого из обвиняемых, - им суждено оставаться в тени?
Побывав когда-то в здании на Лубянке в качестве заключённого, Вышинский побаивался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской иерархии он занимал куда более, высокое положение, чем, скажем, начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице. Что же касается Ягоды - тот и вовсе удостоил Вышинского только одной встречи за всё время подготовки первого московского процесса.
Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжении всех трёх процессов он всё время держался настороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намёк подсудимых на их невиновность, Пользуясь поддержкой подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевозможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более не уместны. Одновременно он не упускал случая превозносить до небес "великого вождя и учителя", а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни.
Ему самому очень хотелось выжить - и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все свои актерские способности, играл самозабвенно, ибо ставка в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамье подсудимых - невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы их ждёт расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искренне наслаждение, когда топтал остатки их человеческого достоинства, черня всё, что в их биографиях казалось ему наиболее ярким и возвышенным. Выходя далеко за рамки обвинительного заключения, он позволял себе заявлять что подсудимые "всю жизнь носили маски", что "под прикрытием громких фраз эти провокаторы служили не делу революции и пролетариата, а контрреволюции и буржуазии". Так поносил вождей Октября человек, который в октябрьские дни и на всём протяжении гражданской войны был врагом революции и республики Советов!
С садистическим наслаждением оскорбляя обречённых на смерть, он клеймил их позорными кличками - "шпионы и изменники", "зловонная куча человеческих отбросов", "звери в человеческом облике", "отвратительные негодяи"...
"Расстрелять их всех, как бешеных псов!" - требовал Вышинский. "Раздавить проклятую гадину!" - взывал он к судьям.
Нет, он не был похож на человека, исполняющего свои обязанности по принуждению. Он обрушивался на беззащитных сталинских узников с таким искренним удовольствием не только потому, что Сталину требовалось свести с ними счёты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что, пока старая гвардия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом голоса, таким, как Вышинский, суждено оставаться париями.
Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях: мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те далекие времена, когда оба мы были прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке.
Я приступил к работе в Верховном революционном трибунале, а затем в Верховном суде задолго до того, как там появился Вышинский. В то время членами Верховного суда состояли почти исключительно большевики из старой гвардии; самым выдающимся из них был Николай Крыленко, сподвижник Ленина, первый советский главковерх (командующий всеми вооружёнными силами). В состав Верховного суда входили также старый латышский революционер Отто Карклин, отбывший срок на царской каторге; бывший фабричный рабочий Николай Немцов, активный участник революции девятьсот пятого года, приговорённый царским судом к пожизненной ссылке в Сибирь; руководитель комиссии партийного контроля Арон Сольц, возглавлявший в Верховном суде юридическую коллегию; Александр Галкин, председатель кассационной коллегии, и ряд других старых большевиков, направленных сюда на работу, чтобы укрепить пролетарское влияние в советском правосудии.
Эти люди провели немалую часть жизни в царских тюрьмах, на каторге и в сибирской ссылке. Революцию и советскую власть они не считали источником каких-то благ для себя, не искали высоких постов и личных выгод. Они бедно одевались, хотя могли иметь любую одежду, какую только пожелают, и ограничивались скудным питанием, в то время как многие из них нуждались в специальной диете, чтобы поправить здоровье, пошатнувшееся в царских тюрьмах.
В 1923 году Вышинский появился в Верховном суде в качестве прокурора юридической коллегии. В нашей бесхитростной атмосфере, среди простых и скромных людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был щеголеват, умел "подать себя", был мастером любезных расшаркиваний, напоминая манерами царского офицера. На революционера он никак не был похож. Вышинский очень, старался завязать дружеские отношения со своим новым окружением, но не преуспел в этом.
Я занимал тогда должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховного суда. Все мы - прокуроры и судьи - раз в день сходились в "совещательную комнату" попить чайку. Часто за чашкой чая завязывались интересные разговоры. Но я заметил одну примечательную вещь: стоило войти сюда Вышинскому, как разговор немедленно затихал и кто-нибудь обязательно произносил стандартную фразу: "Ну, пора и за работу!"
Вышинский заметил это и перестал приходить на наши чаепития.
Хорошо помню, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошёл, небыстро притворил дверь.
Я его терпеть не могу! - с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии.
Почему? - спросил я.
Меньшевик, - пояснил сидящий рядом Николай Немцов. - До двадцатого года всё раздумывал, признать ему советскую власть или нет.
Главная беда не в том, что он меньшевик, - возразил Галкин. - Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот... он просто гнусный карьерист!
Никто из старых большевиков не был груб с Вышинским, никто его открыто не третировал. Если он о чём-то спрашивал, ему вежливо отвечали. Но никто первым не заговаривал с ним. Вышинский был достаточно умён, чтобы понимать, что старые партийцы смотрят на него как на чужака, и начал их избегать. Он привык целыми днями сидеть в одиночестве в своей комнате. В то время было очень мало судебных слушаний и Вышинского в обществе других служащих можно было увидеть разве что на собраниях партийной ячейки и на заседаниях Верховного суда, где обсуждались правовые вопросы или разбирались протесты, внесённые прокуратурой по поводу судебных решений. Но я не помню ни одного случая, когда бы Вышинский выступил на партсобрании или пленарном заседании.
Старые партийцы из Верховного суда, безусловно, не были мелочными людьми. Они легко примирились с тем, что Вышинский был когда-то меньшевиком, и готовы были даже смотреть сквозь пальцы на его враждебную нам активность в решающие дни Октября. Невозможно было простить ему другое: после того как революция победила, он все три года, пока шла гражданская война, всё ещё выжидал и, только убедившись, что советская власть действительно выживет, подал заявление в большевистскую партию.
Как-то - дело происходило в 1923 году - я выступал с докладом перед членами московского городского суда и коллегии защитников. Темой доклада были последние изменения в уголовном кодексе. Присутствовал и Вышинский, и мы вышли из здания Мосгорсуда вместе. Он сказал мне, что до революции намеревался посвятить себя юриспруденции и по окончании курса был оставлен при университете, но вмешалось царское министерство просвещения и лишило его возможности сделать ученую карьеру. Тут Вышинский сменил тему и заговорил о революции 1905 года. Оказывается, его тогда посадили на два года за участие в организации забастовок рабочих. Помню, это произвело на меня впечатление, и я даже подумал, что, быть может, Вышинский не такой уж плохой человек. Потом выяснилось, что эту историю Вышинский рассказывал и другим членам Верховного суда. Он явно стремился завоевать наше расположение и прорвать изоляцию, в которой очутился.
В конце того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку "чистил" Хамовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавшаяся чисткой, состояла из видных большевиков, а возглавлял её член. Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительства двух других членов партии. Сдал автобиографию и Вышинский. В ней он указал, что при царском режиме отсидел один год в тюрьме за участие в забастовке.
Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возвращала предварительно отобранный партбилет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, да и вопросов им практически не задавали. Для них это была просто мимолётная встреча со старыми товарищами, заседавшими в комиссии. Некоторые из нас, более молодых, пройдя комиссию, не спешили уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступила очередь Вышинского. Для него это было серьёзным испытанием: во время предыдущей чистки, в 1921 году, его исключили из партии и восстановили с большим скрипом лишь год спустя.
Прошло полчаса, ещё час, ещё один, ещё полчаса - а Вышинский всё не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ушёл. Наконец Вышинский выскочил, возбуждённый и красный как рак. Выяснилось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трёх часов за закрытой дверью. Он ушёл в дальний конец вестибюля и там в волнении ходил взад и вперёд.
Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбуждённо воскликнул:
Это возмутительное издевательство! Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет!
Было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить всё с Крыленко или Сольцем. Сольц, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране.
Уже отойдя несколько кварталов, мы услышали сзади торопливые шаги. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горячо попросил нас никому не передавать его слов насчёт ЦК. Мы обещали.
На следующий день встревоженная девушка-секретарша вошла в зал заседаний и сказала, что в кабинете Сольца истерически рыдает Вышинский. Перепуганный старик выскочил из кабинета, чтобы принести ему воды.
Арон Сольц стал революционером ещё в конце прошлого столетия. Несмотря на то что он подвергался бесчисленным арестам и провёл много лет в царских тюрьмах и ссылке, душа его не ожесточилась. Он оставался добродушным, отзывчивым человеком.
Как член партии Сольц был обязан неуклонно придерживаться в своей деятельности принципа "политической целесообразности", которым сталинское Политбюро оправдывало всё происходящее. Однако до седых волос Сольц так и не научился спокойно смотреть на несправедливость. Только в последние годы жизни ему пришлось под давлением всеобъемлющего террора повторить сталинскую клевету насчёт Троцкого. Впрочем, под конец у него хватило мужества сказать Сталину правду в глаза, что его и погубило .
Друзья Сольца называли его "совесть партии", в частности, потому, что он возглавлял Центральную комиссию партконтроля (ЦКК) - высший в стране партийный суд. На протяжении нескольких лет одним из моих партийных поручений было докладывать этой комиссии о членах партии, находившихся под следствием, и меня сплошь и рядом восхищал человеческий, неказённый подход Сольца к этим делам.
Именно Сольц; с его добрым и отзывчивым характером, спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращён партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашёл в нашу "совещательную комнату", где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся: "Чего вы от него хотите? Товарищ работает, старается... Дайте ему показать себя. Большевиками не рождаются, большевиками становятся. Не оправдает доверия - мы всегда сможем его исключить".
Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Как-то раз я заглянул туда - Вышинский как раз в это время делал доклад на тему "Обвинение в политическом процессе". Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приёмами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения.
Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос. Но в общем становилось уже ясно, что это - один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Мне начало казаться, что наши партийцы несправедливы к Вышинскому; оставалось надеяться, что со временем они изменят отношение к нему.
Однако вскоре произошел небольшой, но характерный эпизод, показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объёма материалов Крыленко с согласия Политбюро привлекает к данной работе нас. Нам придётся вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать.
В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, и Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование, обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжиривания секретных денежных фондов и что некоторые служащие подозреваются в сотрудничестве с иностранными разведками.
Крыленко попросил нас излагать свои выводы на больших листах бумаги в таком порядке: слева, под фамилией обвиняемого лица, мы должны кратко сформулировать суть обвинения и указать, достаточно ли имеется доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. Справа помечалось, куда следует передать дело: в уголовный суд, в ЦКК, либо решить его в дисциплинарном порядке, а также каким должно быть наказание.
Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содержали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга не ладившие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незначительная часть бумаг свидетельствовала о фактах растраты, моральной распущенности и других вещах, способных нанести ущерб престижу советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили вовсе.
Все вечера Крыленко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-нибудь из нас и смотрел, как подвигается работа. Заглядывая через плечо Вышинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявшегося в чрезмерно роскошном образе жизни, сближении с женой одного из подчинённых и других грехах. Вышинский предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трём годам заключения.
Как это так - три года? - недовольным тоном спросил Крыленко. - Вы тут написали, что он дискредитировал советское государство в глазах Запада. За такое дело полагается расстрел!
Вышинский сконфузился и покраснел.
Вначале я тоже хотел предложить расстрел, - подхалимским тоном забормотал он, - но...
Тут он запнулся, пытаясь подыскать объяснение. Не найдя его и окончательно растерявшись, он промямлил, что признаёт свою ошибку. Крыленко насмешливо уставился на него, - похоже, что замешательство Вышинского доставляло ему удовольствие.
Да здесь вовсе нет преступления - неожиданно произнёс он и, показывая пальцем на запись Вышинского об исключении этого дипломата из партии и предании его суду, заключил:
Пишите: закрыть дело!
Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его ещё больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом:
Как вы меня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку... Когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это я так промахнулся и предложил только три года! А теперь... ха-ха-ха...
Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство гадливости.
Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я никогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишённым всякой морали, что выразит готовность идти на всё - оправдать человека, расстрелять его, - как будет угодно начальству.
Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этот разгром, были Вышинскому на руку.
Сталину требовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антиленинской политике и помочь избавиться от них. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места.
Неудивительно, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться "бдительным оком" партии и ему было поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой чисткой: напротив, из партии исключались те, кто подозревался в сочувствии преследуемым ленинским соратникам. Вышинского в этом подозревать не приходилось. Его назначили генеральным прокурором, и он стал активно насаждать "верных членов партии" в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалось места таким, как Николай Крыленко - создатель советского законодательства и вообще всей советской юридической системы. Он был объявлен политически ненадёжным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции. А Вышинский, годами раболепствовавший перед Крыленко, получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как "антиленинскую и буржуазную".
Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большевики один за другим убираются из Верховного суда. Крыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезла его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая до революции секретарём Заграничного бюро ЦК и личным секретарём Ленина .
В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясён случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами.
Я немедленно зашёл в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину, чем только можно. Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступившего в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Вышинского.
Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин ещё раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие "нужный человек на нужном месте". В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счёты со старыми большевиками.
ПРИМЕЧАНИЯ
Орлов, стремящийся противопоставить "хорошего" Крыленко "плохому" Вышинскому, умалчивает о том, что оба они проявили себя как послушные проводники сталинского произвола на ранних процессах. Например, на процессе "Промпартии" (1930), на "Шахтинском деле" (1928), которое рассматривалось Спецприсутствием Верховного суда СССР под председательством Вышинского и при главном обвинителе Крыленко (!).
А. И. Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг" посвятил Крыленко несколько десятков страниц (см. т. 1. с. 311-408). Из этого обстоятельного, а порой заслуженно издевательского изложения "художеств" Крыленко становится ясно, что "создатель вообще всей советской юридической системы", по грубой арестантской поговорке, "за что боролся, на то и напоролся". (Примеч. ред.)
Вышинский Андрей Януарьевич – юрист, дипломат, одна из ключевых фигур репрессий в СССР.
Увы, наш город одаривал мир не только светлыми гениями. Андрей (Анджей) Вышинский родился 10 декабря 1883 года в Одессе в состоятельной знатной семье. Отец – выходец из старинного польского шляхетского рода, связан прямыми родственными узами с кардиналом Стефаном Вышинским. Был преуспевающим провизором. Мать была пианисткой, учительницей музыки. В доме Вышинских нередко устраивались литературно-музыкальные вечера. Вышинский с детства владел двумя языками – русским и польским. Немного поздней так же свободно он станет говорить и на французском, усвоенным в первоклассной царской гимназии.
В 1888 году, когда Андрею Вышинскому исполнилось пять лет, семья переехала на новое место жительства в Баку, где отец открыл собственную аптеку и стал работать в Кавказском товариществе торговли аптекарскими товарами. Здесь Вышинский окончил первую мужскую классическую гимназию. На гимназическом балу он познакомился со своей будущей женой, Капитолиной Исидоровной Михайловой, с которой впоследствии прожил всю жизнь. По окончании гимназии поступил на юридический факультет Киевского университета, но за участие в студенческих беспорядках был исключен и вернулся в Баку. В 1903 году вступил там же в меньшевистскую организацию РСДРП. В 1908 году за участие в революционных событиях 1905 года отсидел год в бакинской Баиловской тюрьме. Находясь в ней, познакомился и тесно сошелся с находившимся в той же камере И.В. Джугашвили (Сталиным).
Окончить Киевский университет Вышинский смог лишь к тридцати годам, в 1913 году, затем был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию, но отстранен администрацией как политически неблагонадежный. Вновь уехал в Баку, преподавал там русскую литературу и латынь в частной гимназии, занимался адвокатской практикой, в частности, представлял интересы бакинских нефте-про-мышленников.
В 1915 году честолюбивый Вышинский переехал в Москву и вскоре смог устроиться помощником знаменитого адвоката П.Н. Малянтовича. Спустя четверть века, когда Малянтович был приговорен к расстрелу и ожидал своей участи в камере смерти, его обезумевшая от горя жена писала отчаянные письма к “милейшему Андрею Януарьевичу”. Но они так и остались без ответа.
В архивных делах Вышинского отсутствует целый пласт документов, связанных с его молодостью. И это потому, что ему было что прятать.
После Февральской революции 1917 года Вышинский был назначен комиссаром милиции Якиманского района Москвы. На этом посту по должности подписал приказ по району о розыске и аресте скрывавшихся Ленина и Зиновьева.
После Октябрьской революции до 1923 года Вышинский работал в Московской продовольственной управе и Наркомпрод.
Лишь тогда убежденный меньшевик вступил в ряды большевиков. Преподавал в Московском университете, Институте народного хозяйства. В 1923-1925 гг. являлся прокурором Верховного суда, в 1925-1928 гг. – ректором МГУ. В 1931 году – назначен Прокурором РСФСР. В 1935 году – прокурором СССР. Сталину нужно было юридическое обоснование своих беззаконий, и он их нашел в лице Вышинского.
Самое яркое светило советской юридической мысли стал знаменитым прокурором “больших процессов” 30-х годов, главным инквизитором и исполнителем самых кровавых заказов Сталина.
Без его участия не проходил ни один громкий судебный процесс – как скандальные уголовные дела, так и насквозь сфальсифицированные “Шахтинское дело” (1928), “дело «Промпартии»” (1930). Особенно ярко как официальный обвинитель Вышинский показал себя на “больших” сталинских политических процессах 1936, 1937, 1938 годов. Он служил с беспощадной яростью, подводя своих былых товарищей к расстрельной стенке.
Зловещая, страшная фигура, Вышинский был человеком умным, образованным, эрудированным, невероятно работоспособным и абсолютно аморальным.
Страшное кредо Вышинского – “признание обвиняемого – царица доказательств” – позволяло оправдывать произвол, любые методы следствия, упрощенную форму судебного разбирательства, надменную грубость по отношению к подсудимым. Вышинский был не просто исполнителем воли режиссера Сталина, – он был его соавтором. Почти для всех обвиняемых палач Вышинский требовал смертной казни. И при этом был верным мужем и нежно любил свою дочь Зинаиду. За глаза его называли “Андрей Ягуарьевич”.
В 1939 году, получив звание академика, Вышинский становится заместителем председателя правительства СССР, в 1940 году – заместителем наркома иностранных дел. В 1949 году в разгар “холодной войны” стал министром иностранных дел СССР.
В день смерти Сталина он был освобожден от этой должности и выведен из Президиума ЦК. После смерти Сталина он – постоянный представитель СССР при ООН. Это была почетная ссылка, но Вышинский, несмотря на солидный возраст, работал в ООН очень активно. За свои деяния Вышинский был награжден шестью орденами Ленина.
Узнав о начале реабилитации осужденных при Сталине, Вышинский скоропостижно скончался от сердечного приступа 22 ноября 1954 года в США. Похоро-нен на Красной площади у Кремлевской стены.
Наталья Бржестовская, журналист
) (1883-12-10
)
Одесса , Российская империя
Нью-Йорк , США
Андрей Януарьевич Вышинский (польск. Andrzej Wyszyński ; 10 декабря 1883 года , Одесса - 22 ноября 1954 года , Нью-Йорк) - советский государственный и партийный деятель. Дипломат, юрист, один из организаторов сталинских репрессий .
Биография
Отец, выходец из старинного польского шляхетского рода Януарий Феликсович Вышинский, был провизором ; мать - учительницей музыки. Вскоре после рождения сына семья переехала в Баку , где Андрей окончил первую мужскую классическую гимназию (1900).
В 1906-1907 годах Вышинского дважды арестовывали, однако вскоре освобождали за недостаточностью улик. В начале 1908 года был осуждён Тифлисской судебной палатой за «произнесение публично противоправительственной речи».
Отбыл год лишения свободы в Баиловской тюрьме, где близко познакомился со Сталиным ; существуют утверждения, что некоторое время они сидели в одной камере .
По окончании учёбы в университете (1913) преподавал в Баку в частной гимназии русскую литературу, географию и латынь, занимался адвокатской практикой. В 1915-1917 годах помощник присяжного поверенного по Московскому округу П. Н. Малянтовича .
В 1920 году Вышинский вышел из меньшевистской партии и вступил в РКП(б).
В 1920-1921 годах преподаватель Московского университета и декан экономического факультета Института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1923-1925 гг. - прокурор уголовно-следственной коллегии Верховного суда СССР. Выступал в качестве государственного обвинителя на многих процессах: Дело «Гукон» (1923); Дело ленинградских судебных работников (1924); Дело Консервтреста (1924).
Выступал как государственный обвинитель на политических процессах. Был представителем специального присутствия Верховного суда по Шахтинскому делу (1928), по делу Промпартии (1930). 6 июля 1928 года 49 специалистов Донбасса были приговорены к различным мерам наказания Верховным судом СССР под председательством Вышинского.
Распространённая легенда, согласно которой Вышинский утверждал, что признание обвиняемого является лучшим доказательством, - действительности не соответствует. В своей главной работе он декларировал обратный принцип:
С другой стороны, было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее, их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого как ординарные участники процесса. В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае, считавшейся наиболее серьёзным доказательством, «царицей доказательств» (regina probationum). К этому в корне ошибочному принципу средневекового процессуального права либеральные профессора буржуазного права ввели существенное ограничение: «царицей доказательств» собственное признание обвиняемого становится в том случае, когда оно получено правильно, добровольно и является вполне согласным с другими установленными по делу обстоятельствами. Но если другие обстоятельства, установленные по делу, доказывают виновность привлечённого к ответственности лица, то сознание этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится излишним. Его значение в таком случае может свестись лишь к тому, чтобы явиться основанием для оценки тех или других нравственных качеств подсудимого, для понижения или усиления наказания, определяемого судом.
Поэтому обвиняемый в уголовном процессе не должен рассматриваться как единственный и caмый достоверный источник этой истины. Нельзя поэтому признать правильными такую организацию и такое направление следствия, которые основную задачу видят в том, чтобы получить обязательно «признательные» объяснения обвиняемого. Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и - ещё хуже - единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар всё дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них. Несомненно, следствие может только выиграть, если ему удастся свести объяснения обвиняемого на уровень обычного, рядового доказательства, устранение которого из дела неспособно оказать сколько-нибудь решающего влияния на положение и устойчивость основных установленных следствием фактов и обстоятельств. Это положение, как нам кажется, является одним из важнейших методологических правил, строгое применение которого чрезвычайно облегчает задачи следствия, ускоряет развитие следственных действий и гарантирует следствию значительно больший успех, чем это может быть при отказе от руководства этим правилом.
Однако будучи официальным обвинителем на сталинских политических процессах 1930-х годов , Вышинский считал принцип «сведения объяснений обвиняемого на уровень обычного, рядового доказательства» неприменимым к обвиняемым в участии в заговорах и участии в контрреволюционных организациях по следующим причинам:
Однако не следует это правило понимать абстрактно, отвлекаясь от конкретных особенностей того или другого уголовного дела, особенно же такого, в котором участвует несколько обвиняемых, связанных к тому же друг с другом в качестве сообщников. В таких делах вопрос об отношении к объяснениям обвиняемых, в частности к таким их объяснениям, которыми они изобличают своих сообщников, соучастников общего преступления, должен решаться с учётом всего своеобразия таких дел - дел о заговорах, о преступных сообществах, в частности, дел об антисоветских, контрреволюционных организациях и группах. В таких процессах также обязательна возможно более тщательная поверка всех обстоятельств дела, - проверка, контролирующая самые объяснения обвиняемых. Но объяснения обвиняемых в такого рода делах неизбежно приобретают характер и значение основных доказательств, важнейших, решающих доказательств. Это объясняется самими особенностями этих обстоятельств, особенностями их юридической природы. Какие требования в делах о заговорах следует предъявить к доказательствам вообще, к объяснениям обвиняемых как доказательству в частности? В процессе по делу антисоветского троцкистского центра обвинитель говорил: «Нельзя требовать, чтобы в делах о заговоре, о государственном перевороте мы подходили с точки зрения того - дайте нам протоколы, постановления, дайте членские книжки, дайте номера ваших членских билетов; нельзя требовать, чтобы заговорщики совершали заговор по удостоверению их преступной деятельности в нотариальном порядке. Ни один здравомыслящий человек не может так ставить вопрос в делах о государственном заговоре. Да, у нас на этот счет имеется ряд документов. Но если бы их и не было, мы все равно считали бы себя вправе предъявлять обвинение на основе показаний и объяснений обвиняемых и свидетелей и, если хотите, косвенных улик…». И дальше: «Мы имеем в виду далее показания обвиняемых, которые и сами по себе представляют громаднейшее доказательственное значение. В процессе, когда одним из доказательств являлись показания самих обвиняемых, мы не ограничивались тем, что суд выслушивал только объяснения обвиняемых; всеми возможными и доступными нам средствами мы проверяли эта объяснения. Я должен сказать, что это мы здесь делали со всей объективной добросовестностью и со всей возможной тщательностью». Таким образом, в делах о заговорах и других подобных делах вопрос об отношении к показаниям обвиняемого должен быть поставлен с особой осторожностью как в смысле их признания в качестве доказательства, так и в смысле отрицания за ними этого качества. При всей осторожности постановки этого вопроса нельзя не признать в такого рода делах самостоятельного значения этого вида доказательств.
А. Я. Вышинский… 4 февраля 1936 года направил личное письмо председателю Совнаркома В. М. Молотову, в котором обращал внимание на неправомерность и нецелесообразность действий Особого совещания, год спустя, выступая на Февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б), он резко критиковал действия органов НКВД, возглавлявшегося Г. Ягодой, по расследованию политических дел. Вышинский отмечал незаконные методы принуждения к признанию обвиняемых и невозможность вынесения материалов такого следствия в суды. Основным недостатком в работе следственных органов НКВД и органов прокуратуры Вышинский считал "тенденции построить следствие на собственном признании обвиняемого. Наши следователи очень мало заботятся об объективных доказательствах, о вещественных доказательствах, не говоря уже об экспертизе. Между тем центр тяжести расследования должен лежать именно в этих объективных доказательствах. Ведь только при этом условии можно рассчитывать на успешность судебного процесса, на то, что следствие установило истину.
Правда, ни письмо А. Я. Вышинского В. М. Молотову, ни его выступление на Пленуме, судя по репликам из зала, поддержанное членами Пленума ЦК, не имели практического результата.
1936-1938 годы
Выступал как государственный обвинитель на всех трёх Московских процессах -1938 годов .
Некоторые исследователи считают, что по всей видимости, А. Я. Вышинский, всегда поддерживающий политические решения руководства СССР, в том числе репрессии 1930-х годов (Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП (б) 1937 г. идеологически обосновал развёртывание репрессий во всём обществе), выступил с критикой действий Г. Ягоды в связи со скорым исключением того из ВКП(б) и арестом в апреле 1937 года.
На политических процессах 1930-годов обвинительные речи Вышинского отличались особой грубостью, были наполнены резкими высказываниями, оскорбляющими честь и достоинство подсудимых - в частности, по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра, делу антисоветского троцкистского центра, делу антисоветского «право-троцкистского блока». Почти все обвиняемые по этим делам впоследствии были посмертно реабилитированы за отсутствием в их действиях состава преступления (Сокольников Г. Я. , Пятаков Г. Л. , Радек К. Б. , Рыков А. И. , Зиновьев Г. Е. , Бухарин Н. И. и др.). Было установлено, что следствие по данным делам опиралось на сфальсифицированные доказательства - самооговоры обвиняемых, получаемые под психологическим и физическим воздействием (пытками).
Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!…Пройдёт время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа. А над нами, над нашей счастливой страной, по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге, во главе с нашим любимым вождём и учителем - великим Сталиным - вперёд и вперёд к коммунизму!
С 1940 года
В июне-августе 1940 года - уполномоченный ЦК ВКП(б) по Латвии .
С 6 сентября 1940 по 1946 год - первый заместитель наркома иностранных дел СССР. Во время эвакуации НКИД в Куйбышев возглавлял его работу.
12 июля 1941 года Вышинский присутствовал при первом акте, ведущем к созданию антигитлеровской коалиции, - подписании соглашения СССР с Великобританией о совместных действиях в войне против Германии. Принимал участие в конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, проходившей в октябре 1943 года в Москве. По предложению советского правительства, конференция рассмотрела вопросы сокращения сроков войны против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе, открытия второго фронта, обращения с Германией и другими вражескими странами в Европе, создания международной организации для обеспечения всеобщей безопасности и др. В частности, было решено создать Европейскую консультативную комиссию и Консультативный совет по вопросам Италии.
В 1944-1945 годах принимал активное участие в переговорах с Румынией, а затем с Болгарией. В феврале 1945 года в качестве члена советской делегации на Ялтинской конференции руководителей трех союзных держав - СССР, США и Великобритании, участвовал в работе одной из ее комиссий. В апреле того же года присутствовал при подписании договоров о дружбе и взаимопомощи с Польшей, Югославией и другими государствами.
Вышинский привез в Берлин текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии, ознаменовавший победу в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года (оказывал маршалу Г. К. Жукову правовую поддержку).
Участник Потсдамской конференции в составе советской делегации. В январе 1946 года возглавлял делегацию СССР на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Летом и осенью 1946 года выступал на пленарных заседаниях Парижской мирной конференции, в комиссии по политическим и территориальным вопросам для Румынии, аналогичных комиссиях для Венгрии и Италии, в Комиссии по экономическим вопросам для Италии, о компетенции губернатора в Триесте, в Комиссии по экономическим вопросам для Балкан и Финляндии, о мирном договоре с Болгарией.
С марта 1946 года заместитель министра по общим вопросам . В -1953 годах , в разгар начального этапа холодной войны и во время войны в Корее - министр иностранных дел СССР.
В 1949 году в своих выступлениях и статьях обличал «рьяного поджигателя войны», «грубого фальсификатора», «гнусного клеветника» в лице того или иного представителя «международного империализма».
Скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке , был кремирован , прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве .
Андрей Януарьевич отдавал все свои силы, большие знания и талант делу укрепления Советского государства, неутомимо отстаивал интересы Советского Союза на международной арене, с большевистской страстностью борясь за дело коммунизма, за укрепление международного мира и всеобщую безопасность. Он был награждён шестью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. От нас ушёл один из виднейших деятелей Советского государства, талантливый советский дипломат и крупный учёный. Он был верным сыном Коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе.
| Внешние изображения | |
|---|---|
| Вышинский
(заметка о смерти) |
|
Пособник сталинских репрессий
Оказывается, в тот грознопамятный год в своем докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич (так и хочется обмолвиться Ягуарьевич) Вышинский в духе гибчайшей диалектики (которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них да есть да, а нет есть нет), напомнил, что для человечества никогда не возможно установить абсолютную истину, а лишь относительную…. Отсюда-самый деловой вывод: что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик (улики относительны), несомненных свидетелей (они могут и разноречить).
Семья
Был женат (с 1903 г.) на Капитолине Исидоровне Михайловой (1884-1973), в браке родилась дочь Зинаида (1909-1991). Зинаида окончила Московский государственный университет, кандидат юридических наук.
Награды
- Награждён шестью орденами Ленина (1937, 1943, 1945, 1947, 1954), орденом Трудового Красного Знамени (1933), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
- Лауреат Сталинской премии первой степени 1947 года (за монографию «Теория судебных доказательств в советском праве»).
Труды
- Очерки по истории коммунизма: Краткий курс лекций. - М.: Главполитпросвет, 1924.
- Революционная законность и задачи советской защиты. - М., 1934 г.
- Некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских разведчиков. - М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. (переиздана см.: Ликвидация «пятой колонны» [Текст] / Л. Заковский, С. Уранов. - М. : Алгоритм : Эксмо , 2009. - с. 219-259)
- Государственное устройство СССР. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр. изд-во НКЮ Союза ССР, 1938.
- Судебные речи. - М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1938.
- Конституционные принципы Советского государства: Доклад, прочитанный на общем собрании Отделения экономики и права АН СССР 3 ноября 1939 г. - М.: ОГИЗ, 1940.
- Теория судебных доказательств в советском праве. - М.: Юр. изд-во НКЮ РСФСР, 1941.
- Ленин и Сталин - великие организаторы Советского государства. - М.: ОГИЗ, 1945.
- The Law of the Soviet state / Andrei Y. Vyshinsky, gen. ed.; Transl. from the Russ. by Hugh W. Babb; Introd. by John N. Hazard. - New York: Macmillan, 1948.
- Вопросы международного права и международной политики. - М.: Госюриздат, 1949.
- О некоторых вопросах теории государства и права. 2-е изд. - М. : Госюриздат, 1949.
- Избирательный закон СССР (в вопросах и ответах). 2-е изд. - М. : Госполитиздат, 1950.
- Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест (1944-1946 гг.). Документы российских архивов. - М.: РОССПЭН, 1998.
Примечания
Ключевые послы
(ныне в должности)
Кисляк Мамедов Яковенко Гринин Орлов